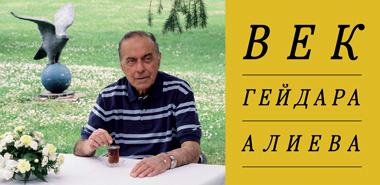Когда Хаим Школьник вышел на Мариинскую, Самуил Новогрудский был в трех кварталах от своей конторы. Он ехал в фаэтоне и разглядывал меж двух охранников-лезгин и оттопыренного уха возницы кусочек изломанной, по-весеннему пахучей улицы.
Школьник никого не разглядывал, сегодня он торопился, шел, точно ножом вспарывал туман впереди себя. Если Хаим Школьник получал в свое пользование смачную историю, глаза его начинали поигрывать переливчатыми отблесками, а поросшие жидкими ржавыми волосенками хомячковые брылья – возбужденно подрагивать.
До революции инженер Школьник служил у Нобеля ответственным за «водонапорное хозяйство», но то было когда-то под сахарной луною, когда Хаим ходил в белом кителе и фуражке и битва за Баку еще не началась. Бакинский совет, англичане, турки, снова англичане… И обещаний от всех столько, сколько потом крови. А Хаиму хотелось дожить до новой сахарной луны и остаться под ней уже навсегда, все равно с кем. И тогда он открыл в себе редкое дарование – знать обо всем в городе раньше других. Ему достаточно было ухватиться за самый краешек сплетни, чтобы вытянуть на свет всех ее участников. Не было случая, чтобы телеграф Школьника, трудившийся даже в святую субботу, опаздывал на вечность. Каспийским газетам такое было не под силу, и потому они нередко прибегали к помощи Школьника. Но сегодня он спешил не в редакцию еженедельника «Кавказер вохенблат» – Хаим торопился в контору г-на Новогрудского, еще несколько лет назад слывшего кондитерским королем Кавказа.
Г-н Новогрудский никогда никуда не спешил, не суетился, всегда делал то, что должен был, и во всем полагался на Всевышнего. Уже была прочитана утренняя молитва: «Нет никого подобного нашему Богу», а путь от Хоральной синагоги до работы недалек.
У шляпного магазинчика «Лувр» Самуил Новогрудский встрепенулся: показалось – увидел старшего своего, Соломона, рослого, златокудрого, крепкого в кости. Второй день парень домой не приходит, мать вся извелась, время ведь какое. «…В назидание потомкам оно! Разве не грех было надеяться на нефть, банковские счета, эмансипацию, корректный либерализм... Не понимают люди, что толкотня их у кормушки – всего лишь пена, выдаваемая за великое достижение цивилизации. Остановить бы всю эту механику. Да вот не может человек безумный узнать, каково быть в здравом уме».
Еще совсем недавно свирепый норд толкал в спину, в уши скребся, скрипел на зубах, а сейчас сменился матушкиным поглаживанием с запахом сирени и керосина. Как можно представить себе Баку без запаха нефти и керосина?
Когда он приехал в Баку в 1906 году вести дела с албанскими татарами, море в утлых суденышках билось почти у основания башни, а теперь вот отступило, сдалось под натиском камня… И все-таки хорошо, что он осел в этом городе, а не остался с семьей в Вильно. Жаль только, Соломон, по всей видимости, не продолжит дело его, духовно смыкается с большевиками.
Косая полоса солнца. Шарманщик. Мальчишки – продавцы газет. Водовозка. «Милости просим!» – короной над распылителем одеколона и парящими в клубах пудры ничейными усами, уже преисполненными самолюбования.
«…Колодезная, Базарная, Почтовая… Нагорные, Параллельные, Перевальные… А какой будет Чадровая лет эдак через сорок? Сорок плюс сорок… Нет, такими темпами с такой арифметикой вряд ли доживу… Чадровая останется на какой-нибудь английской фотографии уже без меня… Но правнук мой, может, пройдется по ней, и я сопровожу его взглядом оттуда, откуда берется вечность и горстями летит вниз, превращаясь во время».
Новогрудский достал из жилета серебряные часы – невольное следствие шумного вздоха, тут же возбудившего внимание охранников.
Вав, Заин, Хет, Тет… Все будет, как должно быть, кто-то сбережет себя, кто-то нет. Вот и часы пошли дальше гулять по фарфоровому кругу с еврейскими буквами вместо цифр, спели о какой-то счастливой вешечке впереди, недоступной пониманию римских и арабских цифр.
Фаэтон свернул с середины улицы и остановился у покосившейся каменной тумбы с ободранными афишами времен «спокойной жизни», напротив чугунных ворот четырехэтажного коммерческого дома.
Охранник в серой черкеске с кинжалом на наборном поясе первым спрыгнул на улицу. Прочитав ее взглядом с двух сторон, встал точкой отсчета. Второй, двойник первого, только помельче, обогнув фаэтон с другой стороны и что-то небрежно бросив товарищу на горском наречии, поспешил за хозяином.
Они вошли в контору через двор: парадный вход был заколочен досками, чтобы не смущать жадных до чужого добра бакинских комиссаров. Можно было бы и оторвать доски, времена сменились, но все почему-то привыкли пользоваться черным входом.
Секретарь Яков, чуть наклонив красиво стриженную голову, приоткрыл дверь в кабинет.
«Такие обычно дома ходят в подтяжках, рвут виноград с кисти ртом, – подумал г-н Новогрудский, – забавляются открытками парижских кафе-шантанов и всегда женятся по расчету».
Только он водрузил на стол свой несессер, в котором лежали талес, тфилин и сидур, только нырнул по седую макушку, накрытую строгой кипой, в свои кондуиты – договоры, контракты, половина из которых потеряла силу стараниями большевиков, эсеров и националистов, как вошел Яков и со всегдашней холодной легкостью объявил, что пришел Школьник-телеграф.
– До вас хотят. Имеют сказать что-то срочное.
Новогрудский поморщился и сделал рукою жест, будто впускал ворона-долгожителя.
– Реб Новогрудский, реб Новогрудский, – заголосил Хаим, входя углом и сразу направляясь к дубовому столу, – вот вы сидите тут у себя, и вы ничего не знаете, вы ничего не знаете, а я даже в кресло с вашего позволения сесть не могу, потому как кровиночка ваша, первенец ваш Соломон скоро будут резаться на кинжалах!
– ?!. – Жизнь приучила Новогрудского к спокойному недоверию.
– Если вы спросите меня, где они собираются резаться, – Хаим все-таки уселся в кресло, но так, будто на спинке его висел дамский чулок, – я вам скажу о фактах, которые не утаю. Дуэль состоится на Волчьих воротах. И времени у нас чуть больше часа!
Вот тут Новогрудский поверил Хаиму, вскочил, широкие ноздри его затрепетали, поднял папку с документами и шмякнул ею о стол так, что подскочил тяжелый чернильный прибор и отлетевшая ручка отпечатала фиолетовую бабочку на зеленом сукне.
– Но вы же меня не спросили, и я вам решительно ничего не сказал. Реб Новогрудский, я умею молчать. – И бывший инженер действительно замолчал, не смея более глядеть в рассерженные глаза бывшего кондитерского короля.
Вместо литвакских голубых глаз Новогрудского Хаим уставился в орнамент ковра, лежавшего на полу диковинной национальной особенностью, в самый центр его – в свастику, и почему-то так сильно пожалел самого себя, будто оставлял свою душу в этом ковровом рисунке.
– Хаим, я буду ждать до прихода Машиаха или будешь говорить?
– Если бы вы меня спросили, с кем собирается резаться ваш первенец, я бы тогда сказал вам, что Соломон собирается резаться с сыном господина Ханджанова. И весь этот татарский Шекспир затеян исключительно из-за Фани.
– ?..
– Фани Слоним. Дочка профессора Слонима. Ах, реб Новогрудский, разве мы не видели с вами ад, разве не меркли наши заклинания перед тем, что творилось в Баку в последнее время, к чему так отдавать себя страсти, чтобы потом вдруг вспарывать животы, словно какие-нибудь погромщики?
Господин Новогрудский позвонил в колокольчик.
– Яков, фаэтон! Касум и Хибуба со мной едут.
– А я?
– Тебе-то что на Волчьих делать?!
– Без меня вы, может, найдете театр, но не сцену. Человеку бывает трудно объяснить природу случайных совпадений. Рискую показаться нескромным, но просто доверьтесь мне, и все.
«Сразу же за городом начинается крутой, густо усеянный камнями спуск – это и есть Волчьи ворота»
Если выехать из Баку и двигаться на юг, сразу же за городом начинается крутой, густо усеянный камнями спуск, ведущий в Ясамальскую долину, – это и есть Волчьи ворота. Когда-то ворье тут делило добычу, а в августе-сентябре прошлого года шли решающие бои за Баку. Много тут народу разного полегло. До сих пор над этим местом птицы одурело парят.
Именно туда мчался сейчас фаэтон, запряженный двумя вороными, на который пересели Новогрудский с охранниками и Школьником у Девичьей башни.
– Чего они у тебя спят?! Гони!..
– Ай, хозяин, быстрее моих карабахских нет.
– Реб Новогрудский, успокойтесь, успеем.
– Скажи, Хаим, что за девица Фаня? – спросил Новогрудский, под влиянием смены сильных чувств теребя седой клин бородки.
– Фаня?! Есть мужчины, которые готовы любить женщин для того только, чтобы отравить им жизнь, но есть и женщины, которые для того живут и любят, чтобы уничтожать мужчин как самый вид.
– Что же, она экземпляр той чудной породы?
– Ах, реб Новогрудский, вертит вашим сыном и молодым ханом как хочет.
Цепь холмов, крутые склоны, плоские камни, испещренные трещинами, по которым иногда течет густая черная жижа, телеграфные столбы у дороги и кусты колючек. Впереди видны машины для черпания нефти. Вышки издали кажутся непроходимым мертвым лесом.
Выдавленный словно большим пальцем руки холм – верблюжий горб, и за ним сразу плато. Крутой подъем, объезд справа, и снова холм, точно следующий этаж дома.
Только бы успеть!.. Вот и следы видны. А вот и два фаэтона у самой обочины притулились. У одного верх откинут, у другого – закрыт, весь в пыли, не поймешь, какого цвета. А вот и мальчики в разорванных белых рубашках со следами первой крови. Хотя какие они мальчики, бычки молодые, разъяренные. А где же секунданты-посредственники, должны же быть?
«Секундантов не было, как не было и военных мундиров, и сабель, воткнутых в землю. Разве в такую землю что-нибудь воткнешь?!»
Секундантов не было, как не было и военных мундиров, и сабель, воткнутых в землю. Разве в такую землю что-нибудь воткнешь?! Для одних ящериц она пригодна.
Соломон отжимал от себя кинжалом кинжал молодого хана, когда господин Новогрудский вырвал кнут из руки кучера и, не чинясь, начал методично обхаживать им дуэлянтов. Вскорости между молодыми людьми образовался зазор, необходимый для того, чтобы между одним встал Касум, а между другим – Хибуба.
В звонко-твердом после ударов кнутом воздухе парил орел. Переговаривались возницы по-своему и, слагая правила сохранения человеческих душ в преходящих условиях мира, качали головами в папахах. Школьник шумно очистил нос, а потом тем же платком легко прошелся по штиблетам, открывая солнцу их траурный вид. Молодой хан двумя пальцами стягивал рану на руке, из которой сочилась кровь, и, по всей видимости, был рад внезапному появлению г-на Новогрудского. Чего нельзя было сказать о Соломоне.
Бывший кондитерский король поднял слетевший с головы картуз, водрузил его поверх кипы и подошел к первенцу. Он хотел сказать ему все, что думает, но впервые знание трех языков не помогло ему; хотел ударить, однако и это показалось ему лишним. Так и стоял Самуил Новогрудский, глядя в глаза сына и пробуя разобраться, откуда пришла эта уничтожающая страсть и не ею ли заражено все вокруг.
– Отец, только что вы испортили мне жизнь, – тяжело дыша, Соломон смахнул кровь с рассеченной брови. Голос его звучал глухо и даже угрожающе.
– Когда разбивается звено, портится не одна жизнь, разлетается вся цепь. И это не шутки.
– Отец, я хочу создать свою цепь, и так, чтобы вы, со своими булочками и пирожными, имели лишь относительное касательство к ней, – сказал он с видом самым независимым и то ли улыбнулся, то ли оскалился, после чего кинулся к фаэтону с закрытым верхом.
Отец останавливать сына не стал, побоялся, решил, пусть сначала остынет: «Он ведь думает, в его голову пришла блестящая мысль!»
Г-н Новогрудский принес свои извинения молодому хану, спросил, может ли чем-то помочь, но, увидев его бледное лицо и подрагивающие усики, сам принял решение, приказал Касиму сопровождать хана до дома.
– Реб Новогрудский, я хочу вам сказать, что у вас есть большая душа и вы умеете принимать радикальные меры… В наше время эти два качества почему-то редко сочетаются в одном человеке.
Чтобы остановить панегирик Хаима, г-н Новогрудский достал из портмоне несколько ассигнаций. И хоть Хаим никогда не работал за медный грош, от смущения рыжие волосы на его лице сделались теплыми и влажными.
Фаэтоны один за другим помчались назад в город, поднимая за собою пыль.
Г-н Новогрудский вдруг впервые осознал, что не может поспеть за тем, что другие называют «новым временем». Пена поднялась высоко, и глупо ждать, пока она осядет, надо спасать детей, бежать в Палестину, пока не поздно.
Но все же ждал до самого прихода 11-й Красной армии, которая тоже успела воспользоваться талантом бывшего инженера, вовремя сообщавшего, где совершается растрата народного добра. Школьник пригодился бы и провозглашенной Азербайджанской Советской Социалистической Республике, если бы не одно «но»: незадолго до того его нашли в море с головой, проломленной предположительно рукояткой револьвера.
Сына Соломона Самуил Новогрудский увидел только спустя два года. В Баку ходили упорные слухи, что прибыл Соломон в город на личном бронепоезде, в белой черкеске с серебряными газырями и маузером в деревянной кобуре на боку, а секретарем у него была сама мадам Косиор. Впрочем, те, кто знал в лицо Фаню Слоним, уверяли, что это была она.
В 38-м году директор «Казэкспорта» Соломон Новогрудский был расстрелян НКВД.
Все, что досталось правнуку Самуила Новогрудского от тех шальных бакинских лет, – это серебряный кидушный стаканчик с видами Новогрудка и бархатный мешочек для тфилина и сидура с двумя апоблекшими дедовскими инициалами «шин» и «нун».