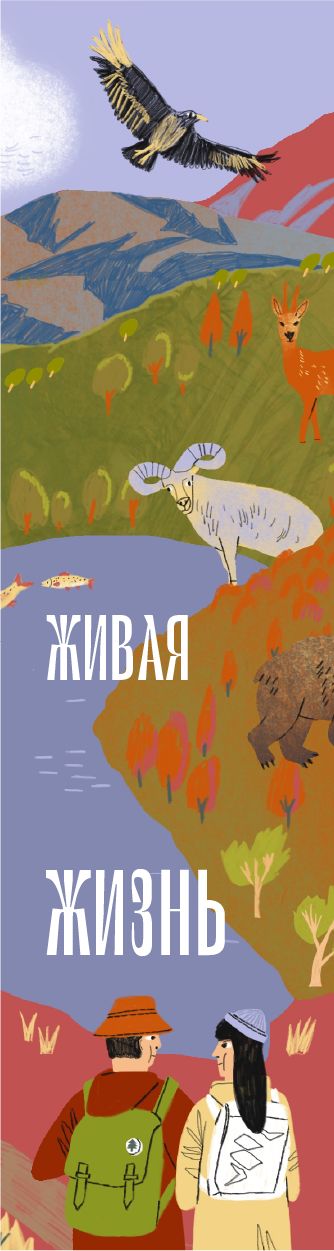Пианист и композитор Риад Маммадов в новом музыкальном проекте соединяет Восток с Западом, прошлое с настоящим. Два альбома его сочинений под названием East of Eden и East of Eden II вышли на французском лейбле Evidence.
«К востоку от рая» – самый амбициозный на сегодня проект Риада Маммадова, а 36-летнему бакинцу в этом смысле есть чем похвастаться. На счету Риада несколько альбомов и призы международных конкурсов, он регулярно дает концерты на ведущих площадках Москвы и Санкт-Петербурга и на протяжении многих сезонов выступает в качестве приглашенного солиста с оркестром musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.
Именно с подачи Курентзиса и зародился проект East of Eden. Центральная его тема – искусство мугама от эпохи мусульманского Ренессанса до современности: Маммадов будто преломляет его через разные композиционные приемы и исполнительские техники. В два альбома вошло шесть авторских сочинений, в том числе интерпретированная Риадом лачинская народная песня. Кроме фортепиано – инструмента самого Маммадова, в альбоме есть контрабас, бас-гитара и бас-кларнет, азербайджанские народные тар и нагара. Западноевропейские вокальные партии исполнил хор Questa Musica, а восточные – ханенде Эхтирам Гусейнов.
БАКУ: Расскажите, как был задуман этот проект. Что послужило отправной точкой?
РИАД МАММАДОВ: Наверное, это произошло, когда мы готовили церемонию открытия Европейских игр в Баку в 2015 году и Теодор пригласил меня стать специальным музыкальным советником. В Берлине мы записывали симфоническую музыку Сибелиуса, Уолтона, кажется, Дебюсси, а также азербайджанскую симфоническую музыку. Я тогда занимался большой выпускной квалификационной работой по современному музыкальному искусству Азербайджана и рассказывал об этом Теодору. Помню, как мы записывали в берлинской студии Funkhaus аранжировки Фараджа Караева, музыку его отца Кара Караева и Узеира Гаджибейли. Сотрудничество и общение с моим старшим другом и наставником подтолкнули меня к тому, чтобы реализовать этот проект не только в теории, но и на практике.
БАКУ: Вы подходите к мугаму не только как к традиционному искусству: кажется, что для вас важно подчеркнуть его актуальность. Это так?
Р.М.: Как композитор я пришел к азербайджанскому мугаму, уже окончив Московскую консерваторию и две аспирантуры – по сути, через западноевропейскую традицию и русскую фортепианную школу. Этот жанр раскрывается на разных уровнях: в нем очень важны лад, исполнительская выразительность, интерпретационное искусство. Я рассматриваю мугам в неразрывной связи со всеми этими качествами. И школа Генриха Нейгауза сыграла здесь очень большую роль.
БАКУ: В одном из интервью вы говорили, что в East of Eden ищете будущее в прошлом. Что вы имели в виду?
Р.М.: Это касается как текстов средневековых поэтов и мыслителей, так и музыки. Связь времен обнаруживается в самом звучании. Перед музыкантами стояла задача соединить большое количество неоднородных инструментов, классических и народных. Например, тар и рояль – инструменты даже не из разных миров, а из разных вселенных. Мы пытались сделать так, чтобы они разговаривали друг с другом в пространстве одного звукового полотна, в рамках единой концепции. Работая над звуком, мы хотели получить «винтажное» ощущение, как от записей на магнитной ленте. Все вместе и составляет то самое будущее через прошлое.
БАКУ: В названии «К востоку от рая» много литературных и библейских аллюзий. Какие из них для вас важнее всего?
Р.М.: У каждого из нас свой рай, особенный и неповторимый. В то же время это слово вызывает у всех схожие чувства, понятные всем без лишних объяснений. В этом проекте я лишь задаю некоторые координаты, даю предпосылку: мне кажется важным, чтобы каждый добрался до собственных мыслей и чувств, имел возможность задуматься о чем-то своем. А литература, вы правы, всегда в этом деле верный помощник, как и история культуры в целом.
Каждая из композиций – мой ответ на вопросы, заданные самому себе, некоторое резюме внутренних поисков. В этих композициях много переплетений веков и культур, потому что для меня это разговор с самим собой через музыку. Так, рядом оказываются поэт Одисеас Элитис и средневековые мыслители, чьи слова соединяются с музыкой сегодняшнего дня, с инструментами из разных миров. У каждого слушателя сложится собственный разговор, появятся свои ассоциации. Я надеюсь на это.
БАКУ: Обложки альбомов нарисовали известные художники из Азербайджана и России – Айдан Салахова и Евгений Дедов. Определенно их работы дополняют вашу музыку. Вы согласны?
Р.М.: Оказалось, что образы и смыслы, важные для меня в музыке, занимают центральное место и в искусстве этих художников. Так размышления о Востоке и Западе, вчера и сегодня, женском и мужском приняли не только музыкальную, но и визуальную образную форму, и проект стал синтезом не только разных жанров, но и разных видов искусства.
БАКУ: Сложным ли был процесс записи? С какими проблемами пришлось столкнуться?
Р.М.: Мы записывали проект на протяжении трех с половиной лет. Соединить на одной студии множество разных музыкантов всегда непросто. Да и европейский джаз – совершенно другая среда по сравнению с народной музыкой. Огромная работа была проведена при подготовке к записи: мы тщательно выбирали, на какие микрофоны будем писать, думали над их расстановкой, слушали отдельно каждый инструмент, чтобы понять, как они взаимодействуют друг с другом. А затем очень долго «докручивали» запись, чтобы получить одну повествовательную историю, в которой все инструменты говорят на одном языке – и вместе с тем на разных.
Я очень люблю всех своих музыкантов. Среди них есть профессора консерватории, заслуженные артисты Азербайджана Эхтирам Гусейнов, Алиага Садиев, Кямран Керимов. С ними мы делим хлеб и сцену. Я невероятно люблю Сашу Зингера. Это мой потрясающий друг, феноменальный барабанщик, профессионал и человек. Мы с ним называем друг друга «гагашик» – это, кстати говоря, бакинское. Невероятно люблю Сережу Корчагина, моего друга, вместе с которым играем много концертов. Дуэт с Сережей меня очень вдохновил, я придумал не одну программу, с которыми мы гастролировали в Санкт-Петербурге, играли на ведущих площадках Москвы. Мы и в Баку вместе прилетали два года назад, выступали на вечере памяти Вагифа Мустафазаде. Он мне подставил свое дружеское плечо и как человек, и как музыкант.
Очень люблю Юрия Гинзбурга. Юра стал солистом на бас-кларнете в первом альбоме и выступил одним из саунд-продюсеров. Мы дружим уже больше 17 лет и вместе сделали не один проект: на Дягилевском фестивале, в Берлине, в Москве. Отдельная моя благодарность Илье Донцову – это технический директор и звукорежиссер, способный организовать всех вокруг. И конечно, хотелось бы поблагодарить вокальный ансамбль Questa Musica под художественным руководством моей подруги Маши Грилихес. Они записали хор, который я сочинил на слова Низами Гянджеви, Одисеаса Элитиса и немного на мои.
БАКУ: East of Eden вышел на французском лейбле. В последнее время азербайджанские музыканты все чаще выпускают релизы на Западе. Можно ли говорить о каком-то тренде? Как азербайджанская музыка в целом и мугам в частности воспринимаются в Европе?
Р.М.: Мне бы очень хотелось назвать это тенденцией, но думаю, что музыка все-таки живет вне границ, в том числе географических. Со своей стороны я стараюсь делать все возможное, чтобы интерес к мугаму возрастал, чтобы мугам проявлялся в привлекательном для европейского и мирового слушателя контексте и не ассоциировался исключительно с народной, то есть в каком-то смысле музейной, историей, а звучал актуально и в соединении с действительностью. В свое время, кстати, интерес к мугаму вырос благодаря Андрею Тарковскому и его «Сталкеру»: в музыке Эдуарда Артемьева к фильму звучит мугам «Баяты-шираз». Это как раз пример соединения очень разных культур в одной композиции.
БАКУ: Есть ли у вас представление об идеальном слушателе, идеальном восприятии вашего проекта?
Р.М.: Я никогда не думаю об этом. В проекте, который делает музыкант, важно другое: насколько ты искренен в процессе создания, в какой степени работа становится трафаретом образа мысли и чувства прекрасного. Приходит момент, когда нужно отпустить произведение, передать его публике и забыть. Дальше музыка сама начинает взаимодействовать со слушателем. Реакция и восприятие публики – уже не моя зона ответственности. Я могу и должен нести ответственность за то, как эту музыку напишу.

«Работая над звуком, мы хотели получить «винтажное» ощущение, как от записей на магнитной ленте. Все вместе и составляет то самое будущее через прошлое»