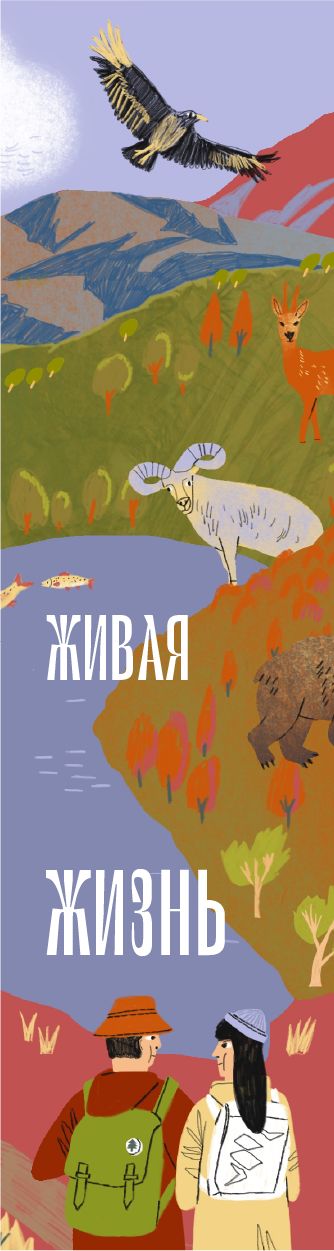О балерине Большого театра Чинаре Ализаде журнал «Баку» впервые написал в 2008 году. За это время Чинара получила несколько важных ролей в Большом театре, но ту, о которой она мечтала с детства, – роль Жизели – она танцует именно в Баку, в городе, где сбываются мечты. В начале лета она вновь танцевала здесь.
Чистенький крестьянский домик, рядом – обязательные ромашки (одну из них должна сорвать Жизель, чтобы погадать о том, любит ли ее граф Альберт). Домик все тот же, что и пять лет назад, когда артистка Большого театра Чинара Ализаде впервые исполнила на сцене бакинского Театра оперы и балета главную роль в этом старинном романтическом балете. И Жизель у Чинары вроде бы совсем не изменилась – тот же доверчивый взгляд, та же открытость миру, ожидание, что каждый день принесет только добрые вести.
На самом деле перемены есть. Прежде всего в технике: она стала еще увереннее и еще незаметнее, ведь виртуозность настоящего артиста состоит в том, чтобы не показывать, как сложен тот или иной элемент. А еще в интонациях. Некоторые балерины, выходя на сцену в этой партии, еще в беззаботном первом акте дают понять, что история кончится плохо: так поднимают брови домиком, так обреченно подают руку партнеру («ах, я знаю заранее, что ты меня предашь»). Солнце Баку плещется в трактовке Чинары Ализаде – ее героиня ясная и веселая девушка. «Я ее наделила жизнерадостными, светлыми эмоциями, – говорит балерина. – Она не осознает, что у нее больное сердце, что на самом деле она такая ранимая. Она любит, считает, что любима, – и счастлива». И такая трактовка делает трагедию Жизели более впечатляющей: когда после беззаботных полетов по сцене наступает слом, когда выясняется, что ее возлюбленный не ровня ей и не может на ней жениться (граф лишь переодевался крестьянином, чтобы развлечься), из солнечного дня Жизель моментально рушится в сумрак сумасшествия. И чем сильнее этот контраст счастья и несчастья – тем отчетливее вздрагивает зритель, тем больше он сочувствует героине.
А это очень важно для Чинары Ализаде. Техника техникой, она безусловно важна, но театр отличается от спорта именно актерской игрой, и балерина перед спектаклем просматривает записи своих великих коллег. «Раньше танцевали по-другому, – говорит она. – К партии подходили прежде всего как актеры, искали внутренний драматизм и старались показать его на сцене». Но вот что важно: у нее нет одного кумира. Среди легендарных балерин, исполнявших эту партию, ей интересны такие разные артистки, как прима Большого Ольга Лепешинская, собиравшая аншлаги в 1940-х годах («Ее Жизель неистовая!» – с восхищением говорит Чинара), и сделавшая свою Жизель отстраненной, почти прозрачной мариинская прима 1960-х Наталия Макарова.
Чинара с удовольствием играет на сцене. В Большом она недавно получила и с блеском исполнила главную роль в «Светлом ручье» Алексея Ратманского, где есть «театр в театре»: ее героиня, когда-то учившаяся в хореографическом училище, морочит голову собственному мужу, заглядевшемуся на заезжую балерину (сюжет схож со знаменитой опереттой «Летучая мышь» – муж не узнает жену и решает за ней приударить). Но для «роли-мечты», для Жизели, оказались более важными другие спектакли в Большом, другой опыт. Три года назад Иржи Килиан, один из трех гениальных хореографов, что подарила миру Европа в ХХ веке, впервые позволил Большому театру станцевать один из своих балетов – «Симфонию псалмов». В этом спектакле нет выделенных главных и неглавных ролей: титулованные и вчера пришедшие в театр артисты катятся по сцене одной великой волной, превращаясь в воплощенную музыку Стравинского. Важно, чтобы тело забыло о том, что в нем есть кости, и плавилось, гнулось, ныряло в музыку; Чинара стала одной из лучших исполнительниц в этом балете. Параллельно в ее репертуаре оказалась «Квартира» Матса Эка – радикальное сочинение шведского танцреволюционера, где в нескольких вызывающих и отчаянных сценах хореограф говорит о разобщенности городских жителей. Еще одно упражнение в новой пластике, безупречно выполненное балериной.
«Важно, чтобы тело забыло о том, что в нем есть кости, и плавилось, гнулось, ныряло в музыку»
«В классике есть рамки, ты должен сделать движение именно так, а не иначе, это канон, – говорит Чинара. – В современной хореографии пластика более свободная, она иногда даже подразумевает импровизацию. Ты двигаешься на сцене и можешь показать себя, а не своего персонажа, и этот опыт потом дает свободу в классическом танце. По-другому чувствуешь себя на сцене. В «Жизели» во втором («загробном») акте ты неземное существо, которое еле касается пола. Должны быть буквально нереальные руки, и вот та свобода, что пришла из модерна, помогает показать, чем привидение отличается от земной девушки».
Чинара доброжелательна и на сцене, и в жизни. «Мне кажется, все зависит от человека, от его воспитания, – говорит балерина. – Да, в театре есть конкуренция и зависть, но надо просто работать и как можно лучше делать свое дело. Надо сторониться интриг – и все будет хорошо. Лично мне никто еще в лицо гадостей не говорил, и думаю, что с подобным не столкнусь. Потому что как ты к человеку относишься, так и он к тебе».
А может быть, ее еще хранит и дает силы Баку, в который она иногда приезжает – всегда ненадолго, потому что работы очень много. «Я родилась в Москве, но здесь мои корни, – говорит балерина. – В этом солнечном городе с теплой публикой я всегда отдыхаю душой. Каждый раз после спектакля мы с родственниками и друзьями идем в Старый город. Гуляем, потом садимся в каком-нибудь кафе с видом на Девичью башню – и я чувствую, что все у меня в жизни правильно. Предложи мне кто-нибудь сейчас вернуться на машине времени в какой-нибудь момент моей жизни, я бы не стала ничего менять».
«В этом солнечном городе с теплой публикой я всегда отдыхаю душой»