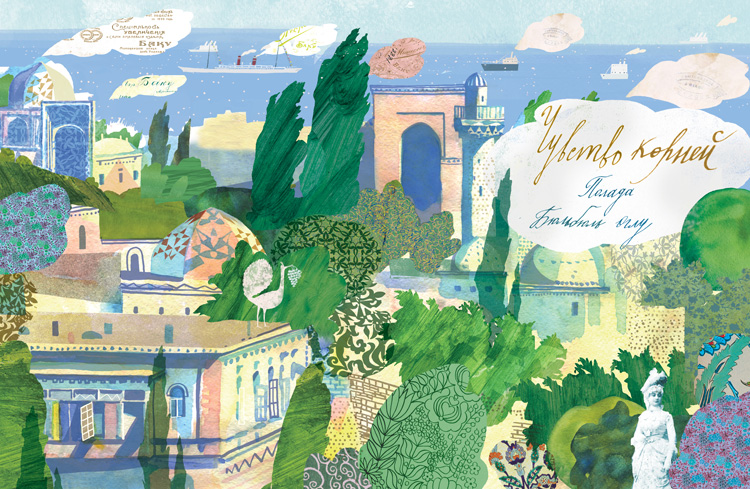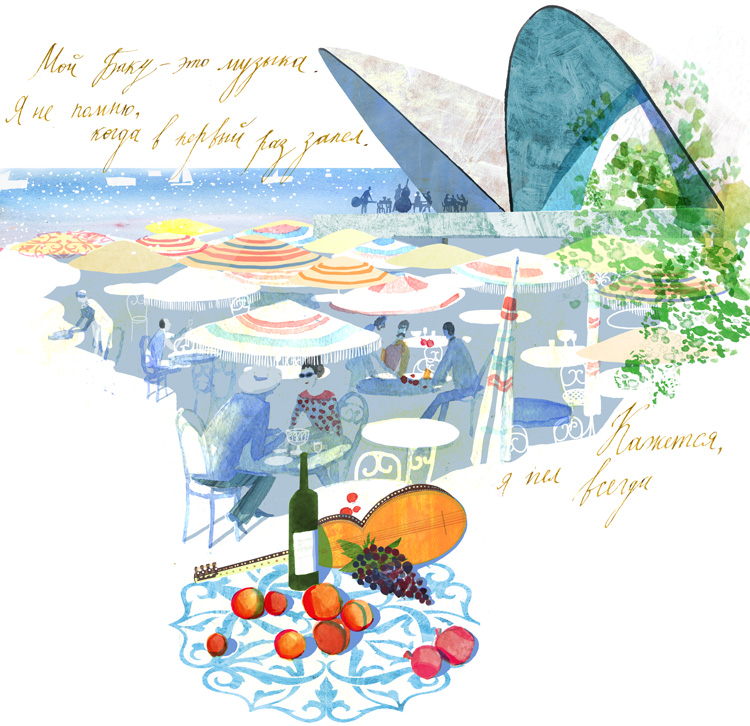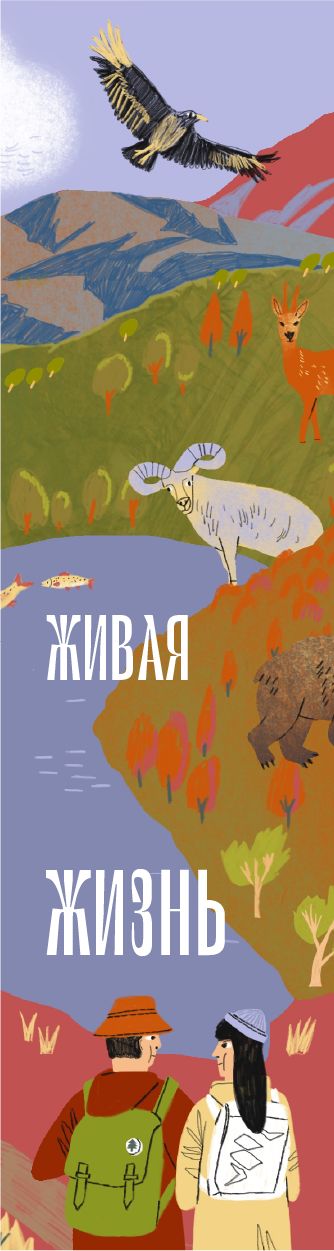У Расула Гамзатова есть гениальная фраза: «Я тебя никогда не вспоминаю, потому что я тебя никогда не забываю». Он сказал это о женщине, но каждый бакинец может адресовать те же слова своему городу. Баку – особое место на земле. Чем старше становишься, тем больше веришь, что некоторые вещи рационально объяснить нельзя. Для множества людей по всему миру «бакинец» – что-то вроде пароля.
Полад Бюльбюль Оглу – чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, народный артист Азербайджанской ССР, профессор, доктор искусствоведения, председатель Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, композитор, певец, актер.
В этом городе почти всегда дует ветер – или с севера, или с юга. Стоит отъехать километров на 40 в сторону Сумгайыта, и он пропадает. Ветер, море, шесть археологических слоев под городом, Великий шелковый путь, огнепоклонники, нефть… Здесь особая энергетика, и она передается людям, которые родились в Баку.
Мне повезло: в своей жизни я общался с несколькими великими бакинцами. Например, с Мстиславом Ростроповичем. Казалось бы, этот человек мог жить где угодно, везде его ждали. Но каждый год он приезжал в Баку, бесплатно давал мастер-классы, дирижировал Азербайджанским симфоническим оркестром. И общался со своим городом. Точно так же постоянно возвращалась в город и наша знаменитая пианистка Белла Давидович. Этим людям ничего не нужно от Баку, кроме самого Баку: приехать, походить по улицам, подышать его воздухом, ощутить магнетизм города. Это чувство бакинца. Бакинцами были Рихард Зорге, академик Лев Лан¬дау, Николай Байбаков… Всех сразу и не назовешь.
В молодости я довольно много времени проводил вне Баку, и просто удивительно, насколько ярко и реально мне снился бульвар. После долгого отсутствия больше всего хотелось пройтись по нему. Приедешь, пройдешься, посидишь с друзьями – и сразу успокаиваешься.
В те времена певцы давали по два-три концерта в день, потому что нужно было кормить музыкантов. Иногда самому эти концерты уже были не очень нужны, но, чтобы содержать коллектив, приходилось все время работать. И однажды от перенапряжения у меня сели связки. Месяц меня где только ни лечили – отек и краснота не проходили. Наконец я попал к очень пожилой профессорше, доктору наук в московской Боткинской больнице. Несмотря на то что я тогда был на пике популярности, она меня не знала. Спрашивала, что пою, где пою, долго смотрела мое горло и связки. Я рассказал, что перепил все возможные лекарства, прошел все процедуры, а голос не восстанавливается. Тогда она спросила, откуда я родом. Я сказал, что из Баку. И она предположила, что я давно там не был. Я посчитал: не был в Баку месяцев восемь. И она сказала: «Значит, так, не пейте больше никаких лекарств. Поезжайте домой, и голос восстановится». Я поехал домой, и на четвертый день голос восстановился.
Папа родом из Шуши, из Карабаха, и он мне рассказывал, что у него тоже как-то возникли проблемы со связками, которые никто не мог вылечить. У него был лирико-драматический тенор – это высокий голос, и любая проблема со связками сразу слышна. Разочаровавшись во врачах, он уехал в Шушу – и через десять дней голос восстановился. Что-то есть в нас, что черпает силы в родной земле, воде, воздухе.

Вспоминая детство, я вспоминаю наш бакинский дворик. Утром встал, позавтракал – и во двор, пока мама не позовет обедать. Потом опять во двор. Потом ужинать – и снова во двор. Так мы и росли в общей ватаге в общем дворе, где никто никогда никого не спрашивал, кто ты по национальности и где работает твой папа. Я был сыном народного артиста Советского Союза, профессора, лауреата Сталинской премии, депутата, папа выступал на главных концертах страны, но во дворе мы все были равны. Кто сильнее и ловчее, тот и атаман. Мы любили лазать по деревьям, кричали по-тарзаньи, конечно, дрались двор на двор и улица на улицу. И эти бакинские дворы наложили отпечаток на все наше поколение. Мы жили по понятиям. Сейчас смысл этого слова совершенно искажен, но мы жили по правильным понятиям: по детским и юношеским понятиям о силе, красоте, честности и порядочности.
Баку для меня – это еще и наша школа. Сначала она называлась школой для одаренных детей, потом – специальной музыкальной школой при консерватории. Я помню всех наших учителей – замечательных, искренне любивших свою профессию и нас. И мы отвечали им взаимностью. В начальной школе у нас была любимая учительница Ольга Михайловна, и когда мы переходили в пятый класс, всем классом пришли к директору просить, чтобы нам ее оставили, так не хотелось расставаться. Удивительно, но эти воспоминания не тускнеют с годами. Отношения были такими искренними, что с возрастом ничего не забывается.
И, конечно, мой Баку – это музыка. Я не помню, когда в первый раз запел. Кажется, я пел с рождения. У папы было много пластинок, патефон, который ему подарил Яков Свердлов. Поэтому сначала я пел арии из опер и романсы. Потом началось кино: «Тарзан», индийский «Бродяга». Петь было как-то естественно. Как дышать. Мне очень повезло: у нас дома бывали такие великие люди, как Фикрет Амиров, Ниязи, Рашид Бейбутов, и многие тогда еще молодые композиторы, которые приходили к папе. Эта музыкальная атмосфера формировала меня, и я часто говорю, что не я выбрал профессию, а профессия – меня. Тогда космонавтов еще не было, и дети мечтали быть пожарными или летчиками. Но я всегда знал, кем буду. Точнее, не видел других вариантов.
Первый раз я выступил перед публикой лет в пять. У папы был шофер Артюша, очень хороший и веселый человек. Когда у него выдавалось свободное время, он ездил куда-то, где шоферы после работы пили пиво с горохом. И однажды, когда Артюша поехал к друзьям, я оказался в машине. Артюша сказал, что я хорошо пою. Вся эта шоферская братия подняла меня на стол, и я спел несколько песен. Они очень сильно аплодировали, это были мои первые аплодисменты, и они мне очень понравились. А потом по городу пошли слухи об этом выступлении, как бывает в Баку: кто-то что-то кому-то рассказал, и вот уже все знают. И, конечно, мама тоже узнала. Начала расспрашивать, я ей радостно рассказал про то, как я пел и как мне хлопали. Бедного Артюшу уволили. Таким было мое первое выступление на публике…
«Мой Баку – это музыка. Я не помню, когда в первый раз запел. Кажется, я пел всегда»

В консерватории я учился у великого музыканта и композитора Кара Караева. Консерваторию тогда возглавлял другой выдающийся музыкант, ученик Шостаковича Джевдет Гаджиев. Кстати, композитором я стал по папиному настоянию. Он всегда хотел, чтобы я понял, как создается музыка, а уж петь он меня всегда научит потом. Но «потом» не случилось: папа очень рано ушел, мне было всего 16 лет.
Я исполнил и папино желание, и свою мечту – запел. Но пел только свои песни. Мой учитель Кара Караев убедил меня не относиться к пению как к основному занятию и не бросать сочинение музыки. Когда на третьем курсе консерватории я впервые записал на радио две песни на азербайджанском языке, я принес их учителю со страхом и трепетом, чтобы посоветоваться, давать ли пленку в эфир. Кара Абульфасович удивился, что я пою, но согласился послушать. Я включил магнитофон и замер. Он послушал, попросил повторить и… одобрил, при этом добавив: «Только не превращай это в профессию. Ты профессиональный композитор». Он тогда первый предсказал, что я очень быстро стану популярным с этим пением. Но попросил помнить, что я композитор.
И я запомнил. Пришлось стать поющим композитором. У меня даже сольные концерты всегда назывались «Творческий вечер композитора». Сейчас жалею, что пел только свои песни, потому что очень хорошие композиторы предлагали мне свои произведения. Но карабахское упрямство во мне всегда брало верх: пока я пел свои песни, я был композитором, поющим свои песни. Если бы я спел что-то чужое, то сразу стал бы исполнителем. А я обещал учителю этого не делать. Потому и симфонию написал, и балет.
Я много над этим думал. Однажды мой коллега почти уговорил меня спеть свою песню, но я удержался. Хотя понимал, что это сильно расширило бы мой диапазон: у каждого композитора свой почерк, свой стиль, и когда поешь только свое, для слушателя это может быть утомительно. Приходилось сильно исхитряться, составляя концертную программу: 25–30 песен за один вечер – нужно проявить большую изобретательность, чтобы вышло интересно.

Карабахские корни, умноженные на бакинскую атмосферу, – это я!
Скоро поеду в Баку в отпуск и ночью обязательно пройдусь по бульвару. Бульвар, Девичья башня, прекрасная архитектура, Каспий, солнце, ветер, хурма, помидоры, инжир, айва, гранаты – все это тоже Баку. Но я хочу сказать не о материальных воплощениях, а о духовном. О том, что объединяет нас.
Я до сих пор дружу с людьми, с которыми дружил в юности: Нуры Ахмедовым, Шамилем Мусаевым, Тамерланом Исмаиловым, Фархадом Бадалбейли, с которым мы еще и много путешествовали. Нашей дружбе 45–50 лет. И когда я приезжаю в Баку, обязательно созваниваемся, если есть время, то и вечером посидим, и не только чаю выпьем. У нас нет никаких общих материальных интересов. Есть только потребность в душевном общении.
Сейчас спрашивают, как раньше жили без мобильных телефонов. Вот так и жили. Конечно, в Баку было гораздо проще, чем в других городах: у нас есть улица Торговая, которая выходит на бульвар. И когда мобильных еще не было, часов в семь-восемь можно было выйти на Торговую и встретить всех, кого нужно. Или по крайней мере узнать, кто когда проходил, и вычислить, где кого искать. Это тоже очень бакинское – просто так гулять по городу, встречать друзей, разговаривать. И это до сих пор сохранилось, тем более что город стал такой красивый, ухоженный: много новых пешеходных зон, красивых памятников, бульвар вырос на несколько километров и скоро увеличится еще. Но новую часть бульвара будут осваивать новые поколения; для моих ровесников самая любимая часть – от Дома правительства до «Азнефти». Когда мы учились на композиторском факультете и искали вдохновение, гуляли там до часу-двух ночи. В Баку всегда было очень безопасно. Мы, признаться, даже не думали, что может случиться что-то плохое.
Как-то при мне журналист спросил у Ростроповича: «Постоянные перелеты, множество концертов, новые произведения – откуда вы берете энергию?» Тот задумался и сказал: «Папа с мамой и бакинский климат». Это, наверное, действительно секрет долголетия и творческого успеха: мама с папой – и сила места, где мы родились.
По натуре я человек мира. Я рано стал популярным, объездил очень много стран и везде ощущал себя комфортно. Но наше бакинское, а в последние годы и карабахское чувство с возрастом сильно обостряется. Чем старше становится человек, чем старше его дети и внуки, тем обо¬стреннее чувство корней.