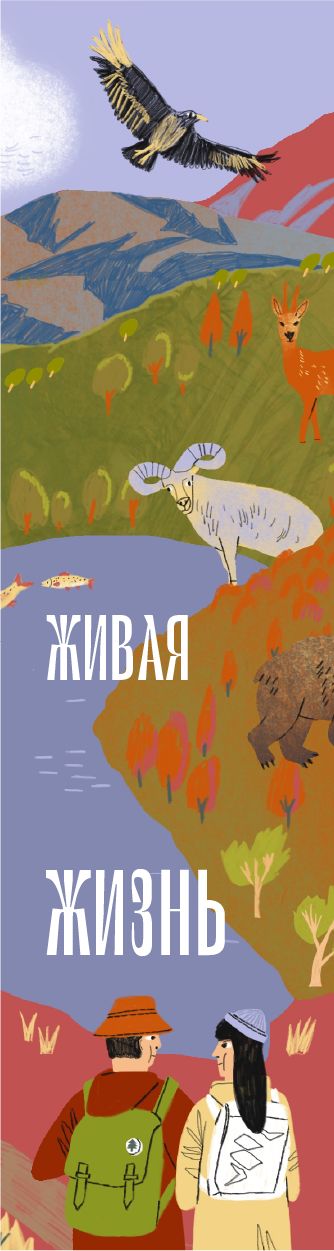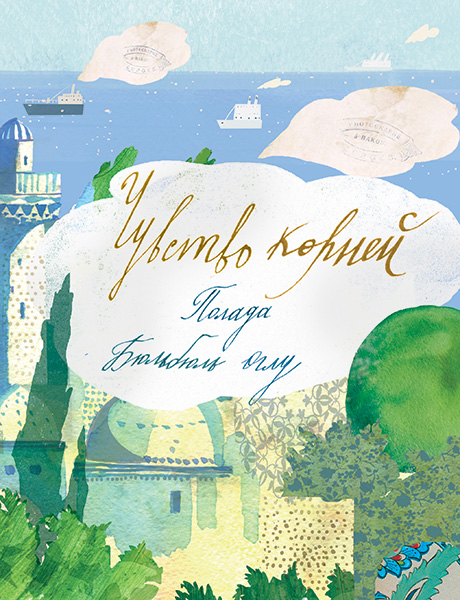Уроженец Баку Анар Аббасов по-настоящему узнал родной город лишь в юности. Именно здесь к нему пришли первая любовь, настоящая дружба и приключения, годы спустя ставшие основой для многих его проектов. Баку, Шамкир, Бешбармаг и Хача-Гая дали режиссеру не только чувство родины, но и представление о божественной красоте.
Анар Аббасов родился в Баку в 1975 году. Выступал в составе бакинского танцевального коллектива Crazy, затем продолжил танцевальную карьеру в Москве, участвовал во втором и третьем сезонах «Фабрики звезд». В 2011 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Алексея Учителя). Снял три полнометражных фильма, к двум из них написал сценарии. Третий фильм – «Пастбища богов» – выйдет в 2024 году. Почти все работы Анара отмечены кинематографическими наградами.
Я родился в Баку, но сразу же надолго расстался с городом. Дело было в 1975 году, в советских вузах существовала система распределения молодых специалистов по предприятиям. Моего отца Махаддина, который учился на инженера, распределили в Горьковскую область, на судоремонтный завод города Чкаловска. Мама Сахиба тогда была на последних месяцах беременности. Она дождалась родов в Баку, а когда я появился на свет, мы с мамой и братом Вугаром, которому шел второй год, отправились в далекий Чкаловск.
Тут следует монтажная склейка, как в кино, и мы переносимся в 1990-й: перестройка, все сложно; папа решил вернуться в Азербайджан. Родителям удалось обменять квартиру в Чкаловске на «трешку» в Баку. Наша хрущевка располагалась в районе Восьмого километра, на улице Оранжерейной.
Так в 15-летнем возрасте я вернулся на родину, где все члены моей семьи начали совершенно новую жизнь.

Это был не первый мой визит в Азербайджан. В детстве мама и папа отправляли нас с братом на лето в Шамкир к своим родителям.
Дед со стороны папы умер до моего рождения, зато отец мамы был полон энергии. Он вечно сидел в саду с ружьем в руке, охраняя свои владения от вороватых птиц. Сегодня мне понятна его тревога: дедов сад был похож на парадиз, там росли груши и яблони, апельсиновые и персиковые деревья, грецкий орех и щедрая шелковица. Всегда что-то цвело или плодоносило, а солнечные лучи, процеженные сквозь древесные кроны, не обжигали, а ласково грели.
При знакомстве – мне тогда было лет семь – дед первым делом протянул мне ружье и предложил пострелять в воробьев. Попутно он громко недоумевал, как дочь и зять, которые между собой говорили по-азербайджански, не выучили своих детей родному языку.
Дед был иранцем. Сто лет назад, когда на Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке было неспокойно и люди постоянно мигрировали, его отец-революционер, уверовав в идеи социализма, бежал из Ирана в советский Азербайджан. Воспитанный этим идеалистом дед стал волевым человеком, воевал в Великую Отечественную.
Вскоре после знакомства дед предложил мне стать вторым вооруженным охранником его эдемского сада и выдал пневматическую винтовку с пульками – как в тире. Я с ней не расставался: спал, завтракал и гулял с винтовкой наперевес, то и дело вскидывая ее. Моей задачей было стрелять в воробьев – коварных и опасных врагов. Я честно отгонял их от райских плодов – к счастью, ни одна птица от моих атак не пострадала.
Однажды я с винтовкой за спиной зашел к бабушке со стороны отца – она жила на той же улице. Ее сад был не таким щедрым, как у деда, но и в нем царили мир и спокойствие, чувствовалось божественное присутствие. На толстой пологой ветви инжира я увидел прекрасную горлицу. Птица спокойно смотрела мне в глаза, не пытаясь улететь. А я, завороженный этой красотой, машинально снимал с плеча винтовку. Направил дуло в грудь горлицы и нажал на курок, толком не понимая зачем. И только когда птица упала в траву и забилась, осознал, что натворил.
Я схватил ее, еще живую, и помчался в дом к бабушке. Она взяла умирающую птицу, пообещав вылечить ее. Больше я горлицу не видел: бабушка сказала, что она улетела. С тех пор я не брал в руки злосчастную винтовку, а эпизод с убийством птицы вошел в мой фильм «Амун».

Когда мы переехали из Чкаловска в Баку, мир заиграл новыми красками. Пятиэтажка, в которой мы жили, представляла собой настоящий интернационал: нашими соседями были азербайджанцы, русские, татары, украинцы, евреи. Я тут же подружился с пестрой компанией соседских детей, и мы проводили большую часть дня во дворе, на соседних улицах и в зеленых окрестностях нашего Восьмого километра.
Я влюбился в соседскую девочку Илону и произвел на нее впечатление тем, что по четыре часа в день занимался на балконе карате. Разумеется, весь двор пристально следил за развитием нашего романа. Мы жили на втором этаже, семья Илоны – над нами, так что я, к недоумению родителей, постоянно пропадал на третьем этаже. Ну то есть мама все понимала, а отец наговорил мне много неприятных слов. Он зря беспокоился: наши с Илоной отношения были настолько чистыми, что дальше соприкосновения рук дело не заходило.
Интересно, что в то же самое время младший брат Илоны, Гурам, был влюблен в мою сестру: она младше меня на десять лет, оба были малышами. Тем не менее Гурам долго переписывался с сестрой и прекратил общение, только когда она вышла замуж.
Это всё к тому, что отношения жителей нашего дома на Восьмом километре были связаны в тугой клубок. Нарушить связи можно было, лишь разрубив сплетенные нити, что и сделала семья Илоны, решив эмигрировать в Израиль. Я узнал об этом последним.
Самолет улетал ночью, когда автобусы в аэропорт уже не ходили, а такси мне было не по карману, так что на проводы любимой отправился пешком. Идти надо было километров 15–20, так что я немного не рассчитал время и, опоздав на регистрацию и посадку, решил повидаться с Илоной прямо у трапа самолета. Я пробрался между проволочными заграждениями, перелез через забор и оказался на летном поле. Там стояли сразу два лайнера, отбывавшие в Тель-Авив. Я бегал вокруг них, вглядываясь в иллюминаторы, но так и не увидел своей Илоны. Наконец самолеты улетели.
Мы с Илоной несколько лет переписывались и перезванивались, а когда я готовился к съемкам «Амуна», действие которого происходит в Израиле, мы смогли пообщаться лично. Но я почему-то так и не смог рассказать, почему не проводил ее.

Став студентом экономического вуза, я моментально потерял интерес к учебе: мне важно было именно поступить, цель была достигнута – зачем же стараться дальше? Я был спортивным парнем: самостоятельно занимался карате, потом нашел по объявлению отличного тренера по ушу.
Одновременно познакомился с уличным танцовщиком Эльманом Рагимовым, и мы вместе создали коллектив под названием Kings. Мы действительно чувствовали себя королями. Как-то раз, фланируя по Торговой от «Макдоналдса» к фонтанам, увидели компанию неимоверно красивых девушек: это была наша будущая солистка Сяма Гасанова со своими подругами из модельного агентства. Сяма оказалась талантливым хореографом – она придумывала яркие движения и костюмы для выступлений, она же предложила переименовать нашу танцевальную группу в Crazy – и под этим именем нас узнал весь Баку.
Отец был резко против моей танцевальной карьеры – и потому что я отказывался учиться, и потому что он считал танцы занятием крайне несерьезным. Наши разногласия были настолько серьезными, что я даже несколько раз сбегал к Эльману и там пережидал, пока дома утихнет буря. Своих взглядов отец не изменил, даже когда я стал участником популярнейшего телевизионного проекта «Фабрика звезд». Только когда я окончил ВГИК и получил диплом режиссера, папа начал со мной спокойно общаться.
«Моей дипломной работой во ВГИКе стала короткометражка «Гурбан». У нее есть предыстория»

Еще в 1990-е, едва вернувшись в Баку, отец принялся строить дом в районе метро «Мешади Азизбеков» (сегодня «Кёроглу») – там поселились многие выходцы из Шамкира. О, сколько моих выходных было омрачено тасканием цемента, плитки и прочих строительных тяжестей! Но оно того стоило: родители переехали в новый дом, а квартиру на Восьмом километре отдали нам с братом.
Мы оправдывали доверие как могли: были вежливы с соседями, поддерживали чистоту. Одно «но»: мы были очень шумными и практически каждую субботу устраивали вечеринки, на которые приходили приятели брата, участники группы Crazy и другие бакинские уличные танцоры, а также самые красивые девушки города. В нашу трехкомнатную квартиру набивалось по 20 человек, некоторые оставались ночевать, а веселье продолжалось до утра.
Надо заметить, что алкоголя и табака на наших пати не было. Быть танцором и пьянствовать – занятия, на мой взгляд, несовместимые. Для всех нас стал примером Эльман, который вообще не пил и не курил. Я завязал со спиртным после того, как попал на день рождения к своему тренеру и он настоял, чтобы мы выпили бутылку коньяка. Как же мне было после этого плохо!
Одним словом, допингам в нашей квартире места не было: только музыка, танцы и флирт. Иногда мы с братом устраивали вечеринки в будни, и тогда под утро мы с гостями выполняли заученный ритуал: общими усилиями приводили квартиру в порядок на случай, если в 8.00 зайдет мама. Она работала учительницей в школе на Восьмом километре и, если не опаздывала на работу, заглядывала проведать нас с Вугаром.
Однажды наша вечеринка затянулась, и соседи вызвали милицию. Приехавший наряд стал колотить в дверь, а мы запаниковали, попрыгали с балкона (второй этаж, невысоко) и разбежались кто куда. Задержали только брата, который гордо отказался убегать. Впрочем, в тот же день его отпустили.

Моей дипломной работой во ВГИКе стала короткометражка «Гурбан». У нее есть предыстория. Пусть мы с друзьями устраивали лихие вечеринки и искали ночных приключений, но божественное привлекало нас не меньше. Мы совершали паломничество на священную гору Бешбармаг. Надо было договориться с водителем старенького «москвича», выехать в три часа ночи, чтобы забраться на вершину к шести утра и встретить рассвет. В минуты, когда всходило солнце, я физически чувствовал, как меня наполняет какая-то чистая, правильная сила.
Я познакомился с местной старушкой, которая много общалась с паломниками – мужчинами, искавшими душевного покоя, и женщинами, просившими у Бога детей. Я даже снял об этой бабушке курсовую, маленькую документалку. И задумал серьезную работу о жертвоприношении.
Здесь мне очень помог отец: он предложил сделать историю о ритуале гурбана на святой горе Хача-Гая недалеко от Шамкира. Папа организовал массовку из наших родственников и подсказал сюжетный ход. Как дед девочек, который мечтал хотя бы об одном внуке, он предложил, чтобы главный герой фильма, отец трех дочерей, отправился принести жертву ради рождения сына. Его жена беременна – так пусть наконец на свет появится наследник! Герой покупает барашка, долго добирается с ним до места, а там понимает, что не может убить животное, к которому привязался. Он сомневается в том, что Всевышнему нужны кровь и страдания живого существа: разве за это он дает нам свою милость? Мужчина ведет спасенного барашка домой, причем по дороге тот спасает своему хозяину жизнь. А вскоре в семье рождается мальчик.
Хорошая добрая история. Она прозвучала так выразительно не в последнюю очередь благодаря тому, что съемки проходили в одном из самых прекрасных мест мира – на горе Хача-Гая. Всевышнего наверняка посетило вдохновение, когда он задумал сотворить ее. Да и весь Азербайджан он создавал как эталон красоты, как лучший свой шедевр, как земной рай.

«Всевышнего наверняка посетило вдохновение, когда он задумал сотворить гору Хача-Гая»